Внимание! Теперь для входа на форум необходимо вводить единый пароль регистрации сервисов sibnet.ru! Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |
| Rescepter |
 15.3.2019, 19:36 15.3.2019, 19:36
Сообщение
#1
|
|
Поддерживает разговор 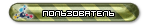 Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 10.8.2015 Пользователь №: 533 057 Репутация:  1 1  |
Михаил Алексеевич Кузмин (1872-1936гг.), русский поэт и прозаик Серебряного века, драматург, переводчик, критик, композитор. Первый в России мастер свободного стиха. Его стихотворные циклы - «Александрийские песни» и «Форель разбивает лёд» - стали вехами в истории русской поэзии. Повесть «Крылья» открыла в русской художественной прозе новую тему однополой любви.
На протяжении творческого пути Михаил Алексеевич Кузмин был в той или иной мере близок к разным поколениям русского поэтического авангарда (символизму, акмеизму, отчасти футуризму, поэтическим школам 1920-х годов). При этом он не становился участником литературных группировок и сохранил творческую самостоятельность. Разноцветье интересов, любовь к изысканному, свежесть взгляда и тяга к вещным, земным проявлениям жизни - эти особенности художнической позиции Кузмина особенно полно воплотились в его стихотворной лирике. Он был мастером изящной стилизации, создал ряд оригинальных авантюрных «жизнеописаний» («Приключения Эме Лебефа», «Подвиги великого Александра», «Путешествие сэра Джона Фирфакса»). Проза Михаила Кузмина лишена психологизма, увлекательная фабула строится на изобретательном чередовании приключений и метаморфоз, испытываемых персонажами. Наибольшей художественной ценностью в прозе Кузмина обладают его сказки, в которых стилизаторский талант автора нашёл наиболее адекватное воплощение. Творческая эволюция Михаила Кузмина изобиловала спадами и подъемами. Самым малопродуктивным в художественном отношении периодом его творчества стали 1913 -1916гг. Тогда он широко сотрудничал в бульварной периодике, был завсегдатаем популярных в среде петербургской богемы литературных кафе и салонов. После 1917г. творчество Кузмина заметно изменилось. Теперь он стал публиковать стихи, которые в значительной степени освобождены от характерного прежде жеманного дендизма, и в них появились живые, безыскусственные интонации, впечатление рождалось от изящной точности называния. В 1922--1924гг. вокруг Михаила Кузмина формируется камерное по составу литературно-художественное объединение эмоционалистов. Эстетическая программа этой творческой группы обосновывала новые положения для литературной практики 1920- х годов: «...Эмоциональное искусство отвергает всякие законы, каноны и обобщения, признавая обязательными только законы данного творца для данного его произведения. Поэтому для каждой вещи возможен свой слог, свой материал». В соответствии с такими воззрениями лирика позднего Кузмина значительно усложнилась, что отчётливо проявилось в его последнем поэтическом сборнике «Форель разбивает лёд». В стихах поэта были усилены тенденции герметизма, стали широко использоваться оккультная символика, изощрённые метафорические ходы, резко усложнилась композиция стихотворных циклов, строящихся на трудноуловимых культурно-исторических ассоциациях. Заметное место в творческом наследии Михаила Кузмина занимают литературно-критические статьи и переводы. Самостоятельность его эстетической позиции проявилась в сочувственной критической оценке таких разнородных литературных явлений, как произведения М. Горького, поэтика А. Ахматовой, творчество В. Хлебникова, лирика поэта-пролеткультовца И. Садофьева, проза Б. Пастернака. Напротив, Кузмин был весьма взыскателен в оценке творчества А. Белого, Н.Гумилёва, молодых писателей группы «Серапионовы братья». Широк и разнообразен круг переведенных Кузминым произведений иностранных авторов: проза Апулея и Боккаччо, сонеты Шекспира, произведения Реми де Гурмона, Д'Аннунцио, Анри де Ренье и других. Раздел I Михаил Кузмин родился 06(18).10.1872г. в Ярославле, в дворянской семье. Его отец, Алексей Алексеевич, был морским офицером. Мать, Надежда Дмитриевна, урожденная Фёдорова, являлась дочерью небогатого помещика Ярославской губернии. Бабушка Михаила Кузмина по материнской линии была внучкой известного в XYIII веке французского актёра Жана Офреня, что в какой-то мере повлияло на возникновение интереса Кузмина к французской культуре. Вообще с раннего детства Михаила западноевропейская культура стала его второй духовной родиной: Шекспир, Мольер, Сервантес, Вальтер Скотт, Гофман, Россини, Вебер, Шуберт формировали личность будущего поэта и музыканта. При том, что родители Кузмина были старообрядцами, и сам он с детства воспитывался в старозаветных традициях бытовой религиозности. Михаил был младшим ребёнком, помимо него в семье было шестеро детей: две сестры и четыре брата.Когда Михаилу исполнилось полтора года, отца перевели служить в Саратовскую городскую судебную палату, и вся семья из Ярославля перебралась на новое место жительства. Там, в Саратове, он окончил подготовительный и первый классы гимназии, в которой в своё время учился будущий великий русский революционный демократ Н.Г.Чернышевский. В 1884г, после отставки отца и по настоянию стремившейся обратно в родной город матери, всё семейство переехало в Санкт-Петербург. Жили сначала на Моховой улице у родственников. В 1886г. умер отец, Алексей Алексеевич. В Петербурге Михаил Кузмин учился в 8-й гимназии (одним из её директоров был русский поэт и драматург И. Ф. Анненский), летом 1901г. окончил гимназию и поступил в консерваторию. Здесь Михаил обучался три года (его учителями были выдающиеся русские музыканты Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов и Н. Ф. Соловьёв.), ещё два года брал частные уроки в музыкальной школе. В 1902-1906гг. музыкальные увлечения Михаила Кузмина воплощались в сочинении многочисленных произведений, преимущественно вокальных. В ту пору он написал много романсов, а также опер на сюжеты из классической древности. В гимназические годы Михаил Кузмин близко сошёлся со своим одноклассником Григорием Чичериным, впоследствии ставшим известным государственным деятелем советской России. Г.В. Чичерин был его самым близким другом вплоть до своего отъезда из России(1904г.). Их объединило одинаковое увлечение — музыка и литература, а также ориентация — они оба являлись гомосексуалами. Г. В. Чичерин в этом дуэте был интеллектуалом, а М. А. Кузмин — творческим началом. Будущий дипломат Чичерин оказал на композитора и поэта Кузмина огромное влияние: расширил его кругозор, ввёл в сферу интересов Кузмина итальянскую культуру, способствовал тому, чтобы тот выучил итальянский язык, позже привил ему серьёзный интерес к философии и немецкой культуре. В круг той художественной интеллигенции, которая играла довольно большую роль в духовной жизни русского общества на рубеже XIX-XX веков, Михаил Кузмин впервые вошёл как музыкант. Этому послужили дружеские отношения с членами знаменитого объединения художников «Мир искусств» (прежде всего с В.Ф. Нувелем, К.А. Сомовым и Л.С. Бакстом) и участие в музыкальном кружке «Вечера современной музыки» (филиал «Мира искусств»). Основанные в 1901г. «Вечера» позволили Кузмину представить его музыку не тесной группе из нескольких человек, а более широкой публике. Как литератор Михаил Кузмин дебютировал довольно поздно. Его первая публикация появилась в 1905г. в полулюбительском альманахе «Зелёный сборник стихов и прозы» », где был напечатан цикл его стихотворений «XIII сонетов», а также оперное либретто. Эти произведения вызвали интерес широко известного в ту пору русского поэта и прозаика В. Я. Брюсова, который привлёк Кузмина к сотрудничеству в символистском журнале «Весы» и убедил его заниматься, прежде всего, литературным, а не музыкальным творчеством. В следующем году 34-летний Кузмин выступил в «Весах» с первыми заметными публикациями — стихотворным циклом «Александрийские песни» и прозаической повестью «Крылья». В 1907г. появились его новые прозаические вещи («Приключения Эме Лебёфа», «Картонный домик»), а в 1908г. вышла его первая книга стихов «Сети», куда вошли также «Александрийские песни». Писательскому дебюту Кузмина сопутствовал громкий успех и признание со стороны критиков-модернистов, в то же время повесть «Крылья» вызвала в обществе скандал из-за первого в русской литературе сочувственного (хотя и довольно целомудренного) описания однополых любовных отношений. До конца 1910-х годов Кузмин продолжал писать «нарочито офранцуженную» прозу. Однако, его остальные романы, повести и рассказы, в основном искусно стилизованные под позднеантичную прозу или характерные для XVIII века плутовские романы странствий (вроде «Кандида»), привлекли меньшее внимание читателей и критики, нежели «Крылья». Современникам Кузмин — отчасти ввиду неразрешимых противоречий его мировоззрения — представлялся фигурой загадочной. По воспоминаниям русского писателя и публициста Георгия Иванова, наружность его была одновременно и уродливая и очаровательная: «Маленький рост, смуглая кожа, распластанные завитками по лбу и лысине, нафиксатуаренные пряди редких волос — и огромные удивительные византийские глаза». На смену русскому платью пришёл франтовский пиджак с высокими тугими воротничками и неизменным галстуком. Много разноречивых толков вызывали прошлое и настоящее поэта:«Кузмин ходит в смазных сапогах и поддевке… Кузмин принимает гостей в шёлковом кимоно, обмахиваясь веером… Он старообрядец с Волги… Он еврей… Он служил молодцом в мучном лабазе…Он воспитывался в Италии у иезуитов…У Кузмина удивительные глаза… Кузмин урод…». Выступая с поэтическими концертами, Михаил Кузмин часто прибегал к музыкальному сопровождению, мелодекламировал (впрочем, негромко), что было тогда в большой моде, а иногда аккомпанировал себе на гитаре. Вот как современник Кузмина описал одно из его выступлений в популярном столичном кабаре «Бродячая собака». « На эстраду маленькими, быстрыми шажками взбирается удивительное, ирреальное, словно капризным карандашом художника-визионера зарисованное существо. Это мужчина небольшого роста, тоненький, хрупкий, в современном пиджаке, но с лицом не то фавна, не то молодого сатира, какими их изображают помпейские фрески. Чёрные, словно лаком покрытые, жидкие волосы зачесаны на боках вперед, к вискам, а узкая, будто тушью нарисованная, бородка вызывающе подчеркивает неестественно румяные щеки. Крупные, выпуклые, желающие быть наивными, но многое, многое перевидавшие глаза осиянны длинными, пушистыми, словно женскими, ресницами. Он улыбается, раскланивается и, словно восковой, Коппелиусом оживленный автомат, садится за рояль. Какие у него длинные, бледные, острые пальцы. Приторно сладкая, порочная и дыхание спирающая истома нисходит на слушателей. В шутке слышится тоска, в смехе – слезы». В 1906г. Михаил Кузмин написал музыку к постановке «Балаганчика» Александра Блока, осуществлённой Мейерхольдом на сцене театра Комиссаржевской. Также сочинил музыку для пьес Блока «Незнакомка» (1911г.) и «Роза и Крест» (1913г.), для «Бесовского действа» Ремизова (1907г.) и блоковского перевода «Праматери» Грильпарцера (1909г.). Некоторые свои стихи он накладывал на музыку и исполнял их вполголоса как романсы. Наиболее широко был известен его романс «Дитя и роза», несколько раз переиздававшийся нотным издательством «Эвтерпа». В период активной богемной жизни Кузмин не чуждался театральной подёнщины. В 1910-1911гг. вместе с Мейерхольдом и художником Сапуновым был художественным руководителем «Дома интермедий» — театра малых форм в особняке Дервиза на улице Галерной (Петербург). Среди многообразных его драматических опытов преобладали балеты в гривуазном духе и исполненные лукавства пасторали, как правило, предназначавшиеся для любительского театра и кабаре. Для труппы Комиссаржевской Кузмин написал «Комедию о Евдокии из Гелиополя» (1907г.), для «Дома интермедий» — «Голландку Лиза» (1911г.), для суворинского Малого театра — оперетту «Забава дев» (1911г.), для Интимного театра — «Выбор невесты» (1913г.), для домашнего театра Е. Носовой — «Венецианские безумцы» (1914г.), для театра Таирова — пантомиму «Духов день в Толедо» (1915г.) и т. д. Будучи завсегдатаем всех петербургских театров, Кузмин на протяжении многих лет писал для периодических изданий обозрения о новых спектаклях и других событиях культурной жизни столицы. В книге «Условности» (Петроград: Полярная звезда, 1923г.) были собраны некоторые его критические статьи, связанные с искусством Серебряного века: о прозе, поэзии, изобразительном искусстве, музыке, театре, кино и даже о цирке. В 1908-1912 гг. Кузмин жил в «Башне» поэта Вячеслава Иванова, где в эти годы собирались молодые поэты, вошедшие в историю русской литературы под именем акмеистов [«Башня» - так называлась квартира поэта на верхнем, шестом этаже в башенной части дома № 35,по улице Таврической г.Петербурга]. В разгар всеобщего увлечения символизмом Кузмин вызывающе открыл свой первый сборник стихов со строчек, воспевающих осязаемые детали реального мира — «шабли во льду, поджаренную булку». С интересами постсимволистов Кузмина сближали виртуозное владение стихотворной формой, особое внимание к детали, установка на преломление мыслей в ясных предметных образах — то, что В.В. Иванов определил как «кларизм». Сам Кузмин, впрочем, к акмеистам себя не относил и относился ко многим из них иронически. Он принципиально держался в стороне от литературных школ и течений, ибо считал, что «без односторонности и явной нелепости школы ничего не достигнут: нужно быть или фанатиком (то есть человеком односторонним и ослеплённым), или шарлатаном, чтобы действовать как член школы». «Я - подмастерье знаменитого Кузмина. Он мой magister», — писал брату начинающий поэт Виктор Хлебников, получивший в «Башне» новое имя «Велимир». Кузмин ободрял молодого экспериментатора и покровительствовал ему. В своём дневнике он записал: у Хлебникова «есть что-то очень яркое и небывалое» и называл его стихи «гениально-сумасшедшими». По разнообразию метрики Кузмин превосходил большинство мэтров «Серебряного века». К примеру, «Александрийские песни» написаны свободным стихом, что для русской поэзии было в новинку. По заключению Вяч. Вс. Иванова, «метры Кузмина оказываются не только для поздней Ахматовой, но и для других поэтов этого времени источником постоянных новшеств». Русский поэт,литературовед и эссеист Лев Лосев считал, что после Кузмина в полной мере овладел верлибром среди русских поэтов только Сергей Кулле. Как только на Кузмина обрушилась богемная слава, в его спальне «на смену безвестным купцам и приказчикам-старообрядцам, молодым людям без определённых занятий и весьма низкого образовательного ценза пришли художники самого элитарного московского и петербургского круга». На сентябрь-октябрь 1906г. пришёлся краткий роман с Константином Сомовым, а на октябрь-декабрь того же года — страстная связь с другим художником, Сергеем Судейкиным, нашедшая отражение в незавершённой повести с ключом «Картонный домик». Конец этой связи положил внезапный брак Судейкина с балериной Ольгой Глебовой.С весны 1913г. постоянным спутником Кузмина становится молодой художник и литератор Юрий Юркун. С 1916г. до конца жизни они жили в квартире № 9 в доме № 17 по улице Спасской.С течением времени эта семейная пара окружающим всё больше напоминала отца и сына («Нежный, умный, талантливый мой сынок…» — писал ему Кузмин). Хозяйство в их квартире вела мать Юрия. Как практически все русские люди образованного класса, Кузмин приветствовал Февральскую революцию в России 1917 года и видел в ней великое завоевание народа. Однако, октябрьский переворот и устанавливаемый большевиками новый социально-политический порядок он воспринял с видимым разочарованием. После Октябрьской революции 1917 года Михаил Кузмин остался в России и со временем превратился в авторитетного мэтра для нового поколения ленинградских поэтов и литераторов. Ради заработка он принимал участие в театральных постановках в качестве музыкального руководителя, писал театральные рецензии. Пока его приглашали, сотрудничал как композитор с созданным в 1919г. Большим драматическим театром — написал музыку к спектаклям «Рваный плащ» С. Бенелли (1919г.), «Мнимый больной» Мольера, «Двенадцатая ночь» Шекспира (1921г.), «Земля» Брюсова (1922г.) и «Близнецы» Плавта (1923г.). Кузмину принадлежат русские тексты опер «Водовоз» Керубини, «Волшебная флейта», «Воццек», «Песни о земле» Малера. У Кузмина осталось очень мало возможностей печататься, так как питавшие его литературную деятельность массовые журналы быстро закрывались, не надеясь на сколько-нибудь стабильный читательский рынок. Альманахи прекращали свое существование, а государственные и частные издательства в новую эпоху не очень-то приветствовали творчество Кузмина, считая его мало соответствующим требованиям широких трудовых масс населения.. Всех шокировали гомосексуальные мотивы поэтики Кузмина. Послереволюционное творчество Михаила Кузмина — пять книг стихов, проза, драматургия, критика — представляет интерес как самостоятельный и не менее важный этап литературной деятельности Кузмина и как малоизученная и плодотворная страница в истории русской поэзии. Стихи Кузмина явно пропадали из печати: два стихотворения были напечатаны в 1924г., ни одного -в 1925г., три- в 1926г., еще несколько- в 1927г., и всё. Лишь чудом увидела свет в 1929г. книга стихов «Форель разбивает лед». В этом смысле судьба Кузмина оказывается одной из самых трагичных в 1930-е годы, поскольку, несмотря на то, что он продолжал писать,его рукописи этого периода фактически не сохранились. Подобное обстоятельство неизбежно сказывалось в ухудшении материального благополучия , состояния здоровья поэта и близких к нему людей. Со второй половины 1920-х годов, как и многие другие литераторы «Серебряного века», лишившиеся возможности публиковаться в государственных издательствах, Михаил Кузмин зарабатывал на существование преимущественно переводами (в том числе эквиритмическими). Среди таких работ наиболее заметными являются: «Сетаморфозы» Апулея (перевод стал классическим), сонеты Петрарки, восемь пьес Шекспира, новеллы Мериме, стихи Гёте и Анри де Ренье. По приглашению Максима Горького Кузмин участвовал в составлении планов французской секции издательства «Всемирная литература», редактировал собрание сочинений Анатоля Франса (также активно переводил его произведения). По свидетельству писателя, историка новейшей литературы и искусства Н. Харджиева, на склоне лет Михаил Кузмин интересовался метафизическими поэтами и «был, вероятно, единственным в нашей стране знатоком поэзии Джона Донна». Из молодых ленинградских авторов, бывавших у него на файвоклоках (полдничное чаепитие – англ.), Кузмин выше всех ставил русского прозаика и поэта К. Вагинова (1899-1934гг.), безвременная смерть которого подействовала на него угнетающе. М. А. Кузмин скончался от воспаления лёгких 1 марта 1936г. в Куйбышевской (Мариинской) больнице в Ленинграде (Литейный проспект, 56); по свидетельству Юркуна — «умер исключительно гармонически всему своему существу: легко, изящно, весело, почти празднично». Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища в Ленинграде (в прошлом Санкт-Петербург)... После Великой Отечественной войны надгробие на могиле М.А. Кузмина было переставлено на другой участок кладбища в связи с сооружением мемориала семьи Ульяновых. Останки же захороненных были « перенесены на новое место, где всех и похоронили в одной общей могиле». В течение 60 лет (с 1929г. по 1989г.) книги М.А.Кузмина в СССР не издавались. Ряд его поздних произведений, по-видимому, не сохранился: романы «Римские чудеса» (сохранились две опубликованные главы), «Пропавшая Вероника», практически не известно о стихотворениях последних 7 лет жизни. Оставшиеся после Кузмина рукописи решением суда были переданы его домохозяйке В. К. Амброзевич (мать Юркуна); дальнейшая судьба большинства из них неизвестна. Богатый фактами дневник за 1905—1929гг. (наряду с другими архивными бумагами) Кузмин продал за 25000 руб. директору Гослитмузея Бонч-Бруевичу. Сохранившийся Дневник за 1934г., был опубликован Глебом Моревым в 1998г. В 2000- 2005гг.были опубликованы дневниковые тетради М.А. Кузмина за 1905-1915 гг. , что позволило пересмотреть место поэта в литературной жизни своего времени и привело к возникновению своего рода культа поэта как хранителя культурных традиций в век крушения русской культуры. Раздел II «Я сам родился ведь на Волге...» Детство и отрочество Михаила Кузмина прошло в Саратове. Семья Кузминых жила в доме №21 по Армянской (ныне Волжской) улице. ..Впечатлений от Саратова в стихах и прозе поэта Кузмина почти не сохранилось, если не считать беглого пейзажа в неоконченном романе «Талый след»: «От Саратова запомнил жары летом, морозы зимой, песчаную Лысую гору, пыль у старого собора и голубоватый уступ на повороте Волги-Увека. Казалось, там всегда было солнце». И знаю я, как ночи долги, Как яр и краток зимний день,— Я сам родился ведь на Волге, Где с удалью сдружилась лень, Где всё привольно, всё степенно, Где всё сияет, всё цветет, Где Волга медленно и пенно К морям далеким путь ведёт. Я знаю звон великопостный, В бору далеком малый скит,— И в жизни сладостной и косной Какой-то тайный есть магнит. После гимназии Михаил Кузмин поступает в петербургскую консерваторию по классу композиции. Его первые стихи возникали исключительно как тексты к собственной музыке — операм, романсам, сюитам, вокальным циклам. Консерваторию не окончил, но всю жизнь продолжал музицировать. В 1906г. по просьбе Мейерхольда он написал музыку к «Балаганчику» Блока и был оценён поэтом. «У меня не музыка, а музычка, - говорил Кузмин, - но в ней есть свой яд, действующий мгновенно, благотворно, но недолго...». Его песенки сразу сделались популярными в петербургских богемных кругах. В литературных светских салонах от них были без ума. Из книги воспоминаний «На берегах Невы» русской поэтессы и прозаика Ирины Одоевцевой (1895-1990гг.): «Кузмин поет. Голоса у него нет. Он пришепётывает, и, как рыба, округлив рот, глотает воздух: Любовь расставляет сети Из крепких силков. Любовники как дети Ищут оков… Я слушаю и чувствую, как мало- помалу в мои уши, в мое сознание, в мою кровь проникает яд его «музычки». Обольстительный, томный и страшный яд, идущий не только от этой «музычки», но и от его лукавых широко-открытых глаз, от его томной улыбки и жеманно взлетающих пальцев. Яд — неверия и отрицания. Яд грации, легкости и легкомыслия. Сладкий обольщающий, пьянящий яд. Вчера ты любви не знаешь, Сегодня — весь в огне, Вчера ты меня презираешь, Сегодня клянёшься мне. Полюбит - кто полюбит, Когда настанет срок, И будет то, что будет, Что уготовил нам рок. Кузмин прищуривает глаза. Лицо его принимает чуть-чуть хищное выражение. Сознает ли он власть над душами своих слушателей?.. Рядом со мною на диване хорошенькая студистка в волнении кусает губы и я вижу, насколько ей кружит голову этот пьянящий яд». «Дух мелочей, прелестных и воздушных...» Для ранних стихов Кузмина характерна жизнерадостность, эллинская привязанность к жизни, любовное восприятие каждой мелочи. В 1890г. он пишет в письме: «Боже, как я счастлив. Почему? Да потому что живу, потому что светит солнце, пиликает воробей, потому что у прохожей барыни ветер сорвал шляпу... посмотри, как она бежит за ней – ах, смешно! потому что... 1000 причин. Всех бы рад обнять и прижать к груди». И в другом письме: «Так радостен, что есть природа и искусство, силы чувствуешь, и поэзия проникает всюду, даже в мелочи, даже в будни!» Последняя цитата точно предсказывает строфу знаменитого стихотворения Кузмина, которое стало буквальным символом всего его творчества: Дух мелочей, прелестных и воздушных, Любви ночей, то нежащих, то душных, Веселой легкости бездумного житья! Ясный, безмятежный взгляд на мир, который сквозит в этом стихотворении, ляжет потом в основу программной статьи Кузмина 1912. «О прекрасной ясности», где он выскажет своё творческое кредо. На фоне глубокомысленного символизма, проповедующего поэзию оттенков и полутонов, Михаил Кузмин первым заговорил о простых и доступных вещах внешней жизни. Его стихи наполнены конкретными понятиями и реалиями жизни: Где слог найду, чтоб описать прогулку, Шабли во льду, поджаренную булку И вишен спелых сладостный агат? «Я не могу не чувствовать души неодушевлённых вещей», - записал он в дневнике. Кузмин вслед Пушкину любил земную жизнь, стремился к гармонии. «Дух мелочей» предстаёт в его поэзии синонимом лёгкости, домашности, небрежного изящества и какой-то нечаянной нежности. Мы не встретим у него гипертрофированного выражения чувств и страстей, как у Цветаевой. В качестве доказательств любви у Кузмина мы неожиданно встречаем: Я жалкой радостью себя утешу, купив такую ж шапку, как у Вас. Это вместо привычных читателям эпитетов «бледнею, дрожу, томлюсь, страдаю». До чего по-домашнему просто и как выразительно! А дело в том, что не придумано, правдиво. Это был период влюблённости Кузмина в художника Судейкина, о котором он написал в своём в дневнике: «Ездил покупать шапку и перчатки. Купил фасон «гоголь» и буду носить, отогнувши козырёк, как Сергей Юрьевич». Поэт-гомосексуалист Михаил Кузмин в своей жизни пережил немало измен, но самая непоправимая измена для него была — с женщиной. В жизни Кузмина вообще не существовало другого пола. В литературных кругах за Кузминым закрепилось амплуа рокового соблазнителя, от которого родители должны прятать своих сыновей. Блок писал: «Кузмин сейчас один из самых известных поэтов, но такой известности я никому не пожелаю». Русские гомосексуалисты практически впервые получили произведения, описывавшие не только переживания, но и быт себе подобных, выражающие дух сугубо мужской любви. Это послужило причиной того, что к Кузмину в его квартиру на Спасской тянулись самые разные люди, искали с ним знакомства и какое-то время занимали в его жизни определённое место. Если перечислить только самых известных гостей Кузмина, то многие будут весьма шокированы: Гордеев, Сомов, Дягилев, Бенуа, Бакст, Вячеслав Иванов, Ремизов, Ауслендер. Любовь у Кузмина представлена не только в её возвышенных, но и в «низких», плотских аспектах. Таков цикл стихов «Занавешенные картинки» (первоначальное название «Запретный сад»), не раз именовавшиеся в печати «порнографическими». После революции 1905г. была отменена цензура и первыми плодами свободы печати были пушкинская «Гаврилиада», «Опасный сосед» Пушкина, вольные стихотворения римских поэтов. К этому ряду можно отнести и «Занавешенные картинки», которые дали Кузмину возможность показать весь диапазон эротических переживаний человека. Вот одно из наиболее «приличных» стихотворений этого цикла: Кларнетист Я возьму почтовый лист,/Напишу письмо с ответом: «Кларнетист мой, кларнетист,/Приходи ко мне с кларнетом. Чернобров ты и румян,/ С поволокой томной око, И когда не очень пьян,/ Разговорчив, как сорока, Никого я не впущу,/ Мой веселый, милый кролик, Занавесочку спущу, /Передвину к печке столик. Упоительный момент! /Не обмолвлюсь словом грубым...» Мил мне очень инструмент /С замечательным раструбом! За кларнетом я слежу, /Чтобы слиться в каватине И рукою провожу /По открытой окарине. Первое прозаическое произведение Кузмина «Крылья» получило скандальную известность из-за затронутой там темы однополой любви. Повесть была понята как прославление порока, как «мужеложный роман» (русская поэтесса и писательница, драматург и литературный критик Зинаида Гиппиус), большинство читателей восприняли её лишь в качестве физиологического очерка, не заметив там ни философского содержания, ни ориентации на платоновские «Диалоги» (прежде всего на «Пир» и «Федр»). Оккультист и магик Наиболее удачным в прозе Кузмина считается его роман «Необыкновенная жизнь Иосифо Бальзамо, графа Калиостро» (1919г.), в котором проявился его интерес к оккультизму и магии. Самого Кузмина многие современники сравнивали с Калиостро — итальянским авантюристом, так замечательно изображённым им в этой повести. На деле, конечно, Кузмин ничем не напоминал своего литературного героя, «тучного и суетливого итальянца». Возможно, имелось в виду то нечто сатанинское, магическое, адское, что виделось многим во внешности поэта. После революции Кузьмин как-то внезапно постарел и, когда-то красивый, стал страшен со своими ставшими ещё громаднее глазами, сединой в редких волосах, морщинами и выпавшими зубами. Это был портрет Дориана Грэя. Довольно близок к этому описанию портрет Кузмина (1919г.) работы русского и французского живописца и графика, художника театра и кино,Юрия Анненкова. Сатанинское начало увидела в Кузмине А. Ахматова, запечатлевшая в «Поэме без героя» его зловещий портрет: Не отбиться от рухляди пестрой, Это старый чудит Калиостро — Сам изящнейший сатана, Кто над мёртвым со мной не плачет, Кто не знает, что совесть значит И зачем существует она. Кузмин глазами Ахматовой и Цветаевой Когда-то Кузмин «вывел в люди» Анну Ахматову. Он одним из первых уловил своеобразие и прелесть её ранних стихов, написал предисловие к её первому сборнику. Ахматова подарила ему свой «Подорожник» с надписью: «Михаилу Алексеевичу, моему чудесному учителю». Однако к концу жизни Кузмина, в 1930-х годах Ахматова перестала с ним встречаться, решительно от него открещивалась. Русский и советский редактор, писатель, поэт, публицист, мемуарист, диссидент Лидия Чуковская в «Записках об А. Ахматовой» записала её слова о Кузмине: «Одни делают всю жизнь только плохое, а говорят о них все хорошо. В памяти людей они сохраняются как добрые. Например, Кузмин никому ничего хорошего не сделал. А о нём все вспоминают с любовью». Ахматова с осуждением говорила: «Кузмин был человек очень дурной, недоброжелательный, злопамятный». А вот у Цветаевой о Кузмине было совершенно противоположное мнение. Она посвятила ему эссе «Нездешний вечер», где передала свои впечатления от первой встречи с Кузминым у него в гостях. Эссе поэтессы— воспоминание о Кузмине — это не литературный портрет в обычном смысле, - это портрет души поэта и её самой. Не перестаёшь поражаться благодарной памяти Цветаевой, десятилетиями хранившей тепло человеческих отношений. Она умела почувствовать и увидеть важнейшее в человеке, то, что дано видеть немногим. У Ахматовой же в оценке Кузмина есть момент сведения личных и литературных счётов. Он сама была очень злопамятным человеком.Так, она не могла простить Кузмину того, что тот в домашнем кругу, посмеиваясь, называл Анну Андреевну «бедной родственницей» за то, что та, после развода с Пуниным [Николай Николаевич Пунин- третий муж Анны Ахматовой- ред.] продолжала жить с ним в одном доме по соседству с бывшей и новой его женой (что было удобно ей по бытовым соображениям, которым она предпочла нравственные). Это злая острота кое-что может объяснить в позднейшей ахматовской неприязни к Кузмину, излившейся на страницах её «Поэмы без героя». Однако — вот такой любопытный нюанс: эта поэма написана особой строфой, уже получившей название «ахматовской строфы». Шестишные строфы состоят как бы из двух трёхстиший. А ведь эта своеобразная строфика, как и самый ритм, взяты из кузминской поэмы «Форель разбивает лёд». Исследователи находили этому объяснение: «поэма Ахматовой направлена против Кузмина, он её главный «антигерой» (Калиостро, Владыка мрака), поэтому возникает и его ритм». Но факт остаётся фактом: «ахматовская строфа» на самом деле является строфой Кузмина. Поздняя поэзия Кузмина Его поэзия 1920-х годов — становится всё более сложной, преломляясь через призму искусства, философских систем. Его поэтические сборники «Парабола» и «Форель разбивает лёд» создали представление о нём как об одном из самых загадочных и эзотерических поэтов 20 века. Внешне отдельные стихотворения выглядят простыми и ясными, но вдруг неожиданные соединения образуют странные картины, которые оказывается почти невозможным расшифровать, не прибегая к сложным методам анализа. В поэме «Форель разбивает лёд» речь идёт, в частности, о том, что происходит с человеком, утратившим объёмное восприятие мира, свойственное влюблённому. Главное в воспеваемых Кузминым любовно-братских отношениях — духовный «обмен» и «подкрепленье» душевным теплом, возникающие в общении близких людей. Результат утраты этого восприятия — обескрыливающая однозначность мира, утратившего полноту и тайну: Наш ангел превращений отлетел. Ещё немного — я совсем ослепну, И станет роза розой, небо небом, И больше ничего! Тогда я, прах, И возвращаюсь в прах! Во мне иссякли Кровь, желчь, мозги и лимфа. Боже! И подкрепленья нет и нет обмена? Стук хвоста форели о лёд откликается 12-тью ударами часов в новогоднюю ночь. Эта ночь несёт с собой окончательное завершение поединка форели со льдом: То моя форель последний разбивает звонко лёд... Кузмин не делил жизнь на высокую и низкую. Для него не было низких предметов, недостойных того, чтобы встать в стихотворный ряд. Оказывается, и шабли во льду, и поджаренная булка, запах пыли и скипидара, голландская шапка, картонный домик — подарок друга и прочие «милые мелочи» нисколько не мешают присутствию божественного начала в поэзии. Такое ощущение, что Кузмин любил землю и небо больше рифмованных и нерифмованных строк о земле и небе, вопреки утверждению Блока, что сочинитель всегда предпочтёт второе. Кузмин любил жизнь. Надо сказать, что появление такого поэта было как бы подготовлено самой почвой Серебряного века. После утончённостей символизма, дерзаний футуризма, хотелось простоты, лёгкости, обыкновенного человеческого голоса. Так заявил о себе акмеизм, ярким представителем которого был Михаил Кузмин. На смену высокому слогу пришла «прекрасная ясность»: Светлая горница — моя пещера, Мысли — птицы ручные: журавли да аисты; Песни мои — веселые акафисты; Любовь — всегдашняя моя вера. Приходите ко мне, кто смутен, кто весел, Кто обрел, кто потерял кольцо обручальное, Чтобы бремя ваше, светлое и печальное, Я как одёжу на гвоздик повесил. Любовь — главная тема, основа творчества Михаила Кузмина. *** Я вижу твой открытый рот, Я вижу краску щёк стыдливых И взгляд очей ещё сонливых, И шеи тонкой поворот. Ручей журчит мне новый сон, Я жадно пью струи живые- И снова я люблю впервые, Навеки снова я влюблён! Это любовь непосредственная, естественная, любовь без пафоса. Любовь открывает наши глаза на красоту божьего мира, она делает нас простыми, как дети: Пастух нашёл свою пастушку, а простачок свою простушку. Весь мир стоит лишь на любви. Она летит: лови, лови! Жизнь даётся единожды, тело тленно, радости любви преходящи, надо ценить каждый счастливый миг, дарованный нам природой. Вот нехитрая философия Михаила Кузмина. А может, в этом и есть высшая мудрость жизни? *** Михаил Кузмин- это, наверное, единственный не трагический поэт в России: Как это характерно для него— вместо стенаний и слёз — лёгкая тонкая ироническая улыбка понимания. Вместо духовности с её прямым обращением к Богу Кузмин предложил поэтическому вниманию душевную жизнь, жизнь сердца: Сердце, сердце, придётся вести тебе с небом счёт. Эта душевная жизнь совсем не проста. Он раскрывает нам её нюансы, тонкости: Не знаешь, как выразить нежность! Что делать: жалеть, желать? Или: Вы так близки мне, так родны, что кажетесь уж нелюбимы. Наверно, так же холодны в раю друг к другу серафимы. Одна из главных тем творчества Михаила Кузмина— путь души через ошибки и страдания к духовному просветлению: О чём кричат и знают петухи из курной тьмы? Что знаменуют тёмные стихи, что знаем мы? За горизонтом двинулась заря. Душа слепая ждёт поводыря. Кузмин - поэт совершенно открытый и очень искренний. В стихах Кузьмина есть «что-то до жуткости интимное», - писал И. Анненский. Русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик Осип Мандельштам так определил особенность стиля Кузмина: «Сознательная небрежность и мешковатость речи». Это вызывает ощущение лирической взволнованности. Его дольник (тип, вид, размерность стихосложения- ред.) похож на безыскусственный детский разговор: Любовь сама вырастает, Как дитя, как милый цветок, И часто забывает Про маленький, мутный исток. Не следил её перемены - И вдруг... о, боже мой, Совсем другие стены, Когда я пришел домой! Какая изысканная простота! Оттого, что здесь высказаны отнюдь не детские чувства, а наблюдения; они задевают особенно сильно. В этом — весь Кузмин, с его мягкостью, теплотой и нежностью. Если для символистской поэзии характерно было требование музыкальности («музыка — прежде всего» - Верлен), то Кузмин ввёл в стихи разговорную интонацию (в основном благодаря вариациям сложных дольников). Но эта разговорность не прозаическая, сохраняя естественность живой речи, она не теряет и свою стиховую мелодичность: Может быть, и радуга стоит на небе Оттого, что Вы меня во сне видали? Может быть, в простом ежедневном хлебе Я узнаю, что Вы меня целовали. Когда душа становится полноводной, Она вся трепещет, чуть её тронь. И жизнь мне кажется светлой и свободной, Когда я чувствую в своей ладони Вашу ладонь. Обломок прошлого Однако со временем стихи Михаила Кузмина стали восприниматься как обломок прошлого, явный архаизм в литературе 1920-х годов. Хотя он ещё переводил (Шекспира, Гёте, Байрона, Мериме, Апулея, Бокаччо, Франса), сотрудничал с театрами, беседовал с молодёжью, порой заходящей в его комнаты в коммуналке на улице Рылеева, но это было уже очень мало похоже на блестящую жизнь одного из самых притягательных для многих поэтов в Петербурге. Русский поэт-акмеист и литературный критик Г. Адамович писал: «Если можно сказать, что кто-либо из старых писателей пришёлся не ко двору новому режиму, то о Кузмине — в первую очередь. Был это человек изощрённейшей и утончённейшей культуры, замкнутый в себе, боявшийся громких слов: в теперешнем русском быту он должен был остаться одинок и чужд всему». Ещё в 1920г. это понял Блок, который как-то сказал Кузмину : «Михаил Алексеевич, я боюсь, чтобы в нашу эпоху жизнь не сделала Вам больно». Последние пять лет жизни Кузмин потратил на труднейший перевод « Дон Жуана», и не получил за это ни копейки. К этому времени он был уже тяжело болен. Нечем было платить за квартиру, лечение. Кузмин продавал книги, иконы, картины друзей, собственные рукописи. Из его последних стихов слышны стенания поэта : Мне не горьки нужда и плен, И разрушение, и голод, Но в душу проникает холод, Сладелой струйкой вьётся тлен. Что значат «хлеб», «вода», «дрова» - Мы поняли, и будто знаем, Но с каждым часом забываем Другие, лучшие слова. Лежим, как жалостный помёт, На вытоптанном, голом поле И будем так лежать, доколе Господь души в нас не вдохнёт. От возможных репрессий власти 1930-х годов Кузмина спасла смерть. Как ни парадоксально и чудовищно это звучит, но Кузмину действительно «повезло» - он успел умереть своей смертью. В письме русского искусствоведа, художественного и литературного критика, библиографа и библиофила Э.Ф. Голлербаха критику, библиографу, поэту Е.Я. Архипову от 15 марта 1936 года есть слова, как бы определяющие внутреннюю суть поэта Михаила Кузьмина: «5 марта я стоял у гроба М.А., смотрел в его строгое, восковое лицо, которое когда-то освещали чуть лукавые, а иногда чуть сонные глаза, и думал о том, какое своеобразное, неповторимое явление литературы воплощал этот исключительный человек, мало понятый и недооцененный. Ушёл человек, слабый и грешный, но остался прекрасный, нежный поэт, остался писатель тончайшей культуры, подлинный художник, чьё благоволение, ироничная мудрость и удивительная душевная грация (несмотря на изрядный цинизм и как бы вопреки ему!), чарующая скромность и простота — незабываемы». __________________________________ PS. При написании данной статьи использованы материалы русских и советских писателей, критиков, литературоведов Бавина С.П.,Быкова Д.Л., Богомолова Н. А., Карпенко А. Н.,Клейн Л. С.,Корниенко С. Ю., Кравченко Н.М., Моревой Г. А.,Пановой Л.Г.,Пурина А. А.,Семибратовой И.В.,Синявского А. Д.,Тименчик Р. Д., Топорова В. Н. Сообщение отредактировал Rescepter - 15.3.2019, 20:01 |
   |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 18:26 |











